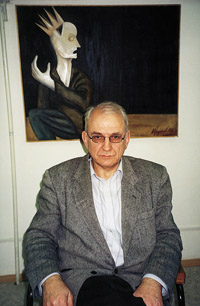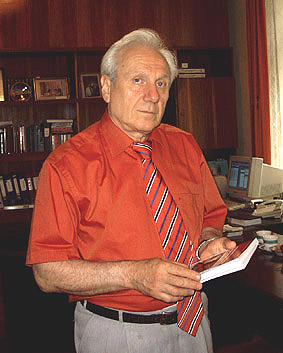Александр Викторович Ерёменко родился 25 октября 1950 в деревне Гоношиха Алтайского края в крестьянской семье. Окончил школу в алтайском городе Заринске. Работал литературным сотрудником в районной газете, каменщиком. В 1977 приехал в Москву и поступил в Литературный институт им. А.М.Горького (не окончил курса). Входил в московский клуб «Поэзия». В конце 1970-х – начале 1980-х годов часто выступал на формальных и неформальных встречах вместе с И.Ф.Ждановым и А.М.Парщиковым, и критики пытались объединить творчество этих поэтов разными терминами: «метареализм», «метафоризм», «метаметафоризм» и т.п. В периодике Еременко начал печататься в 1986, первая книга вышла в 1990. В 1990-е годы почти не писал стихов, однако на протяжении всего десятилетия воспринимался как активный участник литературного процесса, что во многом объясняется появлением большого количества подражателей его «интертекстуальной» («цитатной», «центонной») поэтической техники. Юрий Кувалдин написал эссе о творчестве Александра Ерёменко, и опубликовал в "Нашей улице" лучшую подборку его стихов.
Александр Викторович Ерёменко родился 25 октября 1950 в деревне Гоношиха Алтайского края в крестьянской семье. Окончил школу в алтайском городе Заринске. Работал литературным сотрудником в районной газете, каменщиком. В 1977 приехал в Москву и поступил в Литературный институт им. А.М.Горького (не окончил курса). Входил в московский клуб «Поэзия». В конце 1970-х – начале 1980-х годов часто выступал на формальных и неформальных встречах вместе с И.Ф.Ждановым и А.М.Парщиковым, и критики пытались объединить творчество этих поэтов разными терминами: «метареализм», «метафоризм», «метаметафоризм» и т.п. В периодике Еременко начал печататься в 1986, первая книга вышла в 1990. В 1990-е годы почти не писал стихов, однако на протяжении всего десятилетия воспринимался как активный участник литературного процесса, что во многом объясняется появлением большого количества подражателей его «интертекстуальной» («цитатной», «центонной») поэтической техники. Юрий Кувалдин написал эссе о творчестве Александра Ерёменко, и опубликовал в "Нашей улице" лучшую подборку его стихов.
Александр Еременко
У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС
***
В. Высоцкому
Я заметил, что, сколько ни пью,
все равно выхожу из запоя,
Я заметил, что нас было двое.
Я еще постою на краю.
Можно выпрямить душу свою
в панихиде до волчьего воя.
По ошибке окликнул его я, -
а он уже, слава Богу, в раю.
Я заметил, что сколько ни пью -
В эпицентре гитарного боя
словно поле стоит силовое:
"Я еще постою на краю..."
Занавесить бы черным Байкал!
Придушить всю поэзию разом.
Человек, отравившийся газом,
над тобою стихов не читал.
Можно даже надставить струну,
но уже невозможно надставить
пустоту, если эту страну
на два дня невозможно оставить.
Можно бант завязать - на звезде.
И стихи напечатать любые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
и деревья стоят голубые...
***
Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по желтой насыпи гуляет.
Ее, для глаза незаметная,
непреднамеренно хипповая,
свисает сумка с инструментами,
в которой дрель, уже не новая.
И вот, как будто полоумная
(хотя вообще она дебильная),
она по болтикам поломанным
проводит стершимся напильником.
Чего ты ищешь в окружающем
металлоломе, как приматая,
ключи вытаскиваешь ржавые,
лопатой бьешь по трансформатору?
Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя ее никто не просит.
Ее такое время косит,
в нее вошли такие бесы...
Она обед с собой приносит,
а то и вовсе без обеда.
Вокруг нее свистит природа
и электрические приводы.
Она имеет два привода
за кражу дросселя и провода.
Ее один грызет вопрос,
она не хочет раздвоиться:
то в стрелку может превратиться,
то в маневровый паровоз.
Ее мы видим здесь и там.
И, никакая не лазутчица,
она шагает по путям,
она всю жизнь готова мучиться,
но не допустит, чтоб навек
в осадок выпали, как сода,
непросвещенная природа
и возмущенный человек!
ПЕРЕДЕЛКИНО
Гальванопластика лесов.
Размешан воздух на ионы.
И переделкинские склоны
смешны, как внутренность часов.
На даче спят. Гуляет горький
холодный ветер. Пять часов.
У переезда на пригорке
с усов слетела стая сов.
Поднялся вихорь, степь дрогнула.
Непринужденна и светла,
выходит осень из загула,
и сад встает из-за стола.
Она в полях и огородах
разруху чинит и разбой
и в облаках перед народом
идет-бредет сама собой.
Льет дождь... Цепных не слышно псов
на штаб-квартире патриарха,
где в центре англицкого парка
Стоит Венера. Без трусов.
Рыбачка Соня как-то в мае,
причалив к берегу баркас,
сказала Косте: "Все вас знают,
а я так вижу в первый раз..."
Льет дождь. На темный тес ворот,
на сад, раздерганный и нервный,
на потемневшую фанерку
и надпись "Все ушли на фронт".
На даче сырость и бардак.
И сладкий запах керосина.
Льет дождь... На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.
С крестов слетают кое-как
криволинейные вороны.
И днем и ночью, как ученый,
по кругу ходит Пастернак.
Направо - белый лес, как бредень.
Налево - блок могильных плит.
И воет пес соседский, Федин,
и, бедный, на ветвях сидит -
И я там был, мед-пиво пил,
изображая смерть, не муку,
но кто-то камень положил
в мою протянутую руку.
Играет ветер, бьется ставень.
А мачта гнется и скрыпит.
А по ночам гуляет Сталин.
Но вреден север для меня!
***
Бессонница. Гомер ушел на задний план.
Я Станцами Дзиан набит до середины.
Система всех миров похожа на наган,
работающий здесь с надежностью машины.
Блаженный барабан разбит на семь кругов,
и каждому семь раз положено развиться,
и каждую из рас, подталкивая в ров,
до света довести, как до самоубийства.
Как говорил поэт, "сквозь револьверный лай"
(заметим на полях: и сам себе пролаял)
мы входим в город-сад или в загробный рай,
ну а по-нашему - так в Малую Пралайю.
На 49 Станц всего один ответ,
и занимает он двухтомный комментарий.
Я понял, человек спускается как свет,
и каждый из миров, как выстрел, моментален.
На 49 Станц всего один прокол:
Куда плывете вы, когда бы не Елена?
Куда ни загляни - везде ее подол,
Во прахе и крови скользят ее колена.
Все стянуто ее свирепою уздою
куда ни загляни - везде ее подол.
И каждый разговор кончается - Еленой,
как говорил поэт, переменивший пол.
Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,
никто не избежит блаженной продразверстки.
Я помню наизусть все 49 Станц,
чтобы не путать их с портвейном "777".
Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.
Но в прорву эту все уносится со свистом:
и 220 вольт, и 49 Станц,
и даже 27 бакинских коммунистов...
***
Идиотизм, доведенный до автоматизма.
Или последняя туча рассеянной бури.
Автоматизм, доведенный до идиотизма,
мальчик-зима, поутру накурившийся дури.
Сколько еще в подсознанье активных завалов,
тайной торпедой до первой бутылки подшитых.
Как тебя тащит: от дзэна, битлов - до металла
и от трегубовских дел и до правозащитных.
Я-то надеялся все это вытравить разом
в годы застоя, как грязный стакан протирают.
Я-то боялся, что с третьим искусственным глазом
подзалетел, перебрал, прокололся, как фраер.
Все примитивно вокруг под сиянием лунным.
Всюду родимую Русь узнаю, и противно,
думая думу, лететь мне по рельсам чугунным.
Все примитивно. А надо еще примитивней.
Просто вбивается гвоздь в озверевшую плаху.
В пьяном пространстве прямая всего конструктивней.
Чистит солдат асидолом законную бляху
долго и нудно. А надо - еще примитивней.
Русобородый товарищ, насквозь доминантный,
бьет кучерявого в пах - ты зачем рецессивный?
Все гениальное просто. Но вот до меня-то
не дотянулся. Подумай, ударь примитивней.
И в "Восьмистишия" гения, в мертвую зону,
можно проход прорубить при прочтенье активном.
Каждый коан, предназначенный для вырубона,
прост до предела. Но ленточный глист - примитивней.
Дробь отделения - вечнозеленый остаток,
мозг продувает навылет, как сверхпроводимость.
Крен не заметен на палубах авиаматок,
только куда откровенней простая судимость.
Разница между "московским" очком и обычным
в том, что московское, как это мне ни противно,
чем-то отмечено точным, сугубым и личным.
И примитивным, вот именно, да, примитивным.
Как Пуришкевич сказал, это видно по роже
целой вселенной, в станине токарной зажатой.
Я это знал до потопа и знать буду позже
третьей войны мировой, и четвертой, и пятой.
Ищешь глубокого смысла в глубокой дилемме.
Жаждешь банальных решений, а не позитивных
С крыши кирпич по-другому решает проблемы -
чисто, открыто, бессмысленно и примитивно.
Кто-то хотел бы, как дерево, встать у дороги.
Мне бы хотелось, как свиньи стоят у корыта,
к числам простым прижиматься, простым и убогим,
и примитивным, как кость в переломе открытом.
"Наша улица", № 9-२०००
Юрий Кувалдин
И ЛЕТИТ ФИЛОЛОГИЯ К ЧЕРТУ С МОСТА
(Александр Еременко)
эссе
Поднимаясь наверх возле Чистых прудов, понимаешь, что ты оказался на Патриарших. Останкинская телебашня. Т.282-15-38. Ул. Академика Королева, 15. М. "ВДНХ", далее тролл. 13. 69 до ост. "Экскурсионный корпус телебашни". Эта склонность к видениям тянет к окну, но об этом потом... Было время, когда поэт Бездомный шел (в первой редакции) от площади Революции пешком до Патриарших прудов с главным редактором толстого литературного журнала Берлиозом...
Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,
никто не избежит блаженной продразверстки.
Я помню наизусть все 49 Станц,
чтобы не путать их с портвейном "777".
Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.
Но в прорву эту все уносится со свистом:
и 220 вольт, и 49 Станц,
и даже 27 бакинских коммунистов...
И пришли на лестницу (черную, где в висок мне ударяет какой-то вырванный с мясом черной курицы звонок). Таких домов с такими лестницами в 90-х годах двадцатого (двадцатого ли; откуда считаешь, математик?) не должно бы было быть, но они есть. Коммунальных квартир советское жилье, двадцать смей, полутемный широкий страшный коридор.
В одну дверь стучится Меламед Игорь Сунерович, плотный, в очках, невысокий, поэтом называющийся... Бездомный в кепке с большим козырьком (рассказ назывался так у Трифонова, Валентиновича) сидит уже на скамейке с толстым журналом (как осточертели эти толстые журналы, которые не читает 99,99 процентов всего населения), трамвай идет через Садовое кольцо с улицы Красина. Красина была Владимирской, кажется. Орион. Т. 470-04-54. Ул. Летчика Бабушкина, 26. М. "Бабушкинская". Билеты 50р. Детский клуб открыт каждое Вс с 11.00 до 14.00. Для маленьких посетителей подготовлена веселая развлекательная программа с участием забавных клоунов и дрессированных животных.
Филонов съел пирожок в магазине самообслуживания в исполнении Плятта Ростислава, которого нигде нет. Если спросить у уборщицы, почему она пьяным утром собирала бутылки в исписанном подъезде критика Вл.Новикова, никто не ответит, потому что поэт, враг филологов и Филонова, который съел пирожок, Еременко (сколько же этих Еременок развелось по Москве, то артист, то флейтист, то пианист, то массажист) Александр, да Александр Еременко, с окончанием фамилии на "ко", почему не на "ов", был бы Еременков, а то - Еременко-ко-ко-ко, словно курочка снесла яичко-ко-ко, итак Еременко, смуглый, тип лица - узбекский, черноволосый, узкоглазый, нос с горбинкой, с усами, короче, Александр Еременко (эй, налей-ка, милый, чтобы сняло блажь, чтобы дух схватило, и скрутило аж! да налей вторую, чтоб валило с ног, нынче я пирую - отзвенел звонок!) свои бутылки в Крылатское в подъезд к Вл.Новикову не возил. Я с Меламедом вхожу в маленькую комнатку, зашарпанную, обшарпанную, бродяжью... Слово "бродяга" лучше, чем слово "бомж"...
Мы поедем с тобою на А и на Б
мимо цирка и речки, завернутой в медь,
где на Трубной, вернее сказать, на Трубе,
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть...
Часто пишется "труп", а читается "труд",
где один человек разгребает завал,
и вчерашнее солнце в носилках несут
из подвала в подвал...
Бомж ничего не переехал, даже Садового кольца на красном трамвае-сцепке, из трех вагонов, такой красный трамвай, с деревянными вагонами, высокими, как сараи.
Еременко трезвый скучнее Еременко пьяного. Потому что трезвый не пишет ничего уже 10 лет, а Еременко поддатый не связывает слово со словом.
Я позвонил ему, шелестя газетой, после выхода Басинского с "Литературкой" к трамваю, шелестя все той же газетой, с Еременко...
Газета разобрала-поделила (Латы-ты-ты!) дачи в Перелыгино с Киевского вокзала, где Берлиоза искало руководство МАССОЛИТА...
Льет дождь... Цепных не слышно псов
на штаб-квартире патриарха,
где в центре аглицкого парка
Стоит Венера. Без трусов...
На даче сырость и бардак.
И сладкий запах керосина.
Льет дождь... На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.
С крестов слетают кое-как
криволинейные вороны.
И днем и ночью, как ученый,
по кругу ходит Пастернак.
Направо - белый лес, как бредень.
Налево - блок могильных плит.
И воет пес соседский, Федин,
и, бедный, на ветвях сидит...
Играет ветер, бьется ставень.
А мачта гнется и скрыпит.
А по ночам гуляет Сталин.
Но вреден север для меня!
В общем, неважно, кто с кем выходил... Марина Тарасова напротив Окуджавы на одной улице, хотя Окуджава уже на совершенно другой. Говорю Тарасовой - Пастернак плохой поэт. Пастернак - это литературщина! Она чуть со стула не падает. Говорю, большая воля требуется, чтобы доказать, что Пастернак плохой поэт. И никакой воли (ни жизненной, ни поэтической) не нужно, чтобы со всеми заместителями литературы талдычить, что Пастернак... Впрочем... (далее по тексту следует джентльменский набор... а в походной сумке спички да табак... Пастернак... и рыжий, золотушный Бродский...) Хотя Басинский, не московский, в очках, скучный, и, по-моему, медлительный (ленивый?), как Меламед, и похожий на Меламеда, книгу которого стихов я собрался издавать, посовещавшись с Иваном Поныревым, пишущим под псевдонимом Иван Бездомный, а Басинский, нерасторопный, не мог больше одной страницы отписки в книгу однокурсника Меламеда написать что-нибудь про его стихи. Ростикс. Ресторан. Т. 251-49-50. 1-я Тверская-Ямская ул., 2/1. М. "Пушкинская. Ежедневно 10.00-23.00. В меню ресторана блюда из мяса курицы. Маленькие посетители могут попробовать специальный детский обед, в стоимость которого (80 р.) входит игрушка. В зале для детей есть игровой уголок с сухим бассейном, горками, лабиринтом.
Я звонил, а оттуда Еременко-ко-ко говорит: "Харипити кана оро минго варбугра", - заикаясь, хрипя, икая, подвизгивая... И даже телефонная трубка запахла водкой. Потому что уходим в запой, как в дремучие сети Би-Лайна. Что еще доказать пионерам из 4-Б? Посмотри! Этот дом все стоит и стоит. И Москва утомительно рядом. На хрена мне такая Москва! А Еременко тихо обнял свой компьютер, и стучит по клавишам стихами Меламеда для "Книжного сада" в переплете зеленом, на толстой 120-граммовой белейшей бумаге.
Не оттого ли поэт Меламед набухался до сизого визга, для начала у себя на Хамовническом валу, а потом поехал с шоблой куда-то на допой, и шагнул из окна с третьего этажа? Он лежал трупорыльно. И дышал. Поэт дышал лежа. Потом на кровати в больнице я сдвинуть его помогал, он шептал и стонал. И белый халат поднимал одеяло и прозрачную утку подсовывал. С Патриарших прудов! Какой критик может понять полет пьяного в доску, в стельку, до положения риз поэта? Никакой!
Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...
Лето - пора отдыха, и, получив долгожданный отпуск, все мы начинаем реализовывать планы, задуманные еще зимой и, стремясь из города к садам-огородам, к морю или, на худой конец, к ближайшему водохранилищу. Тем же, кто по какой-то причине остается проводить отпуск и каникулы в Москве, мы сегодня расскажем о наиболее интересных местах нашего города, куда можно отправиться всей семьей... ЦПКиО им. Горького. Правда, вход на территорию платный, но зато вы побываете в "Луна-парке", покатаетесь на лошадях и пони, посетите многочисленные кафе или всей семьей с набережной Москвы-реки отправитесь в увлекательное путешествие на катере. Хотелось бы добавить, что покататься по реке можно и на речных трамвайчиках. Стоимость детского билета - 20 р. (будни), 40 р. (выходные), а для взрослых - 40 р. (будни), 80 р. (выходные). Расписание и маршрут поездки вы узнаете, позвонив на речной вокзал по т. 118-08-11.
В солнечный знойный день хочется очутиться на природе, открыть детям тайны великолепных растений. В таком случае лучшей прогулкой для вас станет посещение Ботанического сада с его восхитительными цветниками и вековыми деревьями.
Как видите, в столице много замечательных мест для проведения семейного досуга. Главное, не сидеть дома, и тогда от любого отпуска, даже если он проходит в Москве, останутся приятные воспоминания!
Есть поэт, близко живущий со взрывом в Печатниках, Викторов Борис. Приехали они в начале мая ко мне на Москву-реку с Меламедом, который еще не стал летающим поэтом, космонавтом не стал и летчиком тоже. Глаза их опрокинулись в черноту. Блажеевский Женька умер! У меня не было телефона, и Меламед с Викторовым приехали с это вестью о Блажеевском Евгении Ивановиче. Блажеевский постоянно добавлял к имени это "Иванович", чтобы за еврея не принимали. Но его принимали, и он обижался, а однажды принес показать мне книжку еврейских поэтов, в которую его занесли. Я - русский! И умер неопохмеленным!
На трамвае с Красина через кольцо на Бронную Малую, которая больше Большой! И комсомолка в красной косынке рвет тормоз! Узбек Еременко, говорите!
И что он в трубку пьяным голосом там бормотал мне? Одно в конце бухнул расчлененно: "Кувалдин, с бутылкой ко мне!". Куда мы поедем с тобою на А и на Б? В ночной Елисеевский, на Смоленку в дежурный или возьмем у швейцара в кабаке гостиницы "Центральной"? Если критик не пьет, то он идиот. Вперед, комсомольское критиков племя, вперед. А кто говорит, что поет, не зная мелодий и слов. Множественное число прудов идет оттого, что троится в глазах. Пруд Патриарший - малютка, лужа, болотце. Пионерские пруды в советское время. Кто укреплял Советское время? ГУЛАГ - напрасен, ЦК КПСС - напрасен, комсомол, ПТУ, партия - все напрасно и не имеет смыслов. Прекратите, товарищи, что-либо защищать. Все равно защищать нечего в гальванических лесах. И еще и еще по стакану, "Динамо"! Больше пить я не буду. Меламед расписался. А Валерий Краско (Крас-Краскопулос-Красотин-Красман-Красиян-Красневич, лишь во сне я так свободен, как свободен я во сне лишь), сумасшедший с Судостроительной улицы, сказал, что Меламед его опередил, потому что Краско первым хотел выброситься из окна. Умка. Детский познавательно-игровой центр. Т. 181-98-12. ВВЦ. М "ВДНХ". Павильон № 8 "Юные натуралисты". Ежедневно 10.00-18.00. Дети и родители могут стать участниками интереснейших мероприятий, проводимых на территории центра. Для посещения открыты: Планетарий, где можно узнать о звездах и Галактике, об эволюции Вселенной, солнечном затмении. Билеты 20 р. Физическая игротека (занимательная физика для детей от 5 до 15 лет). Билеты 15 р. Оранжерея (удивительные растения тропиков, субтропиков, пустынь).
Вот они какие, выдающиеся современники, пишущие исключительно на русском языке, по-русски, да еще с рифмами, да еще с ритмами, со стопами, со строфами... Стакан влындят и пишут.
Я заметил, что, сколько ни пью,
все равно выхожу из запоя.
Я заметил, что нас было двое.
Я еще постою на краю...
Можно бант завязать - на звезде.
И стихи напечатать любые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
и деревья стоят голубые...
Коммуналка внутри, этот почерк знаком. По воде, как по льду, пешеходы скользят и кричат на углах, на могилах кричат - хаос сделаем смыслом, распределим по полочкам и помрем, как один, безвестными миллионами спермоподобных, больше пафоса в победе чего-нибудь, Патрики! Непобедимые слова трамвайного тепла. Все слова сказаны и все слова несказанные на Патриарших прудах. В лодочке гражданочка хохочет. Пионеры, обмотанные пулеметными лентами, штурмуют...
Вот только солнце выглянет, вот только солнце выглянет... Угол высокого дом с маленьким магазинчиком. Сделай, Еременко, оригинал-макет Маяковскому с облаком в штанах. О, этот выдуваемый шар столетий! Он еще не понял, что времени не существует, что есть одна комната, из которой ушел Мандельштам и пришел Еременко, а стулья остались. Суперпраздники для детей. Клоуны, фокусники, дрессированные животные, акробаты, любые артисты всех жанров. Дискотека, свет, дым. Караоке. Украшение зала воздушными шарами. Ростовые куклы и многое другое. Т. 125-78-06.
Велосипед в коридоре коммунальной квартиры. Мальчик едет на трехколесном велосипеде. Для тех, кто танцует. Обувь и одежда. Сеть фирменных магазинов. Приглашаем к сотрудничеству ночные клубы, стриптиз-бары, танцполы и развлекательные центры. Выполняем эксклюзивные заказы. На мониторе у Еременко, в углу, квадратик телеэкрана, идет футбол. Еременко верстает книгу Меламеда и смотрит футбол. Женщина с лицом алкоголички, сухим, кожа и кости, желтым, уходит за пивом. Центр красоты и здоровья. Пункты приема объявлений. На углу Ермолаевского и Малой Бронной стоят со стакнами Еременко, Есенин, Рубцов, Меламед и Блажеевский. Вдалеке виднеется фигура в штанах-галифе и в хромовых сапогах.
С кинокамерой, как с автоматом,
ты прошел по дорогам войны.
Режиссером ты был и солдатом
и затронул душевной струны...
В кабаках, в переулках, на нарах
ты беседы провел по стране
при свече, при лучинах, при фарах
и при солнечной ясной луне.
...стих Еременки сам пробивал себе дорогу, появившись даже в застойных "Днях поэзии" восьмидесятого и восемьдесят третьего годов. Вспоминается вечер молодых поэтов, устроенный на исходе 1984-го в помещении "Литгазеты". В качестве "стариков Державиных" приглашены были Евгений Евтушенко и Станислав Лесневский. Аудитория весело встречала уже знаменитые к тому времени строки: "На раскладушке засыпает Фет", "В густых металлургических лесах", "И в белой душе расцветает диод". Мы тогда ценили во всем этом веселье и остроумие...
Собираясь на отдых, мы редко задумываемся о том, с какими проблемами можно столкнуться на природе, а зря. Как не хотелось бы об этом думать, но именно в летний жаркий период возрастает вероятность получения всяких ненужных недугов и заболеваний. И чтобы не омрачать свой отпуск или отдых детей, необходимо знать элементарные меры предосторожности.
Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по желтой насыпи гуляет...
Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя ее никто не просит...
Особенно это касается тех огородников, кто в качестве удобрения использует компост.
Довод существенный, думаю, что и сегодня имеет смысл продолжить спор. Дело в том, что новая поэзия всегда вырастает из быта, из домашней атмосферы и неуклонно вытесняет обветшавшую "публичную" риторику. "Домашний" "Арзамас" потому и победил "гражданскую" "Беседу", из "быта" выросли потом и Некрасов, и Блок.
Евтушенко довольно решительно обрушился на такие строки Еременко:
Как говорил поэт, сквозь револьверный лай
(заметим на полях: и сам себе пролаял)
мы входим в город-сад или в загробный рай...
Мэтру показалась кощунственной подобная трактовка самоубийства Маяковского, хотя чего уж там: и романтику "револьверного лая", и обман "города-сада" сегодня приходится отбросить окончательно. Отчитав молодого коллегу, маститый поэт снисходительно заметил, что он и сам из Марьиной рощи и тоже умеет "ботать по фене".
...ирония Еременко создает исключительное неудобство для певцов ложных лозунгов. Центонный стих Еременко больно сталкивает поколения... Причем "дети" в этом споре нередко оказываются взрослее "отцов": они жизнь видят зорче, бесстрашнее и беспощаднее.
"Сейчас все под Ерему работают", - сказал один поэт.
Пэйнтлэнд Парк. Мы приглашаем детей от 8 лет окунуться в незабываемый мир игр и приключений! 1. Пэйнтбол. 2. "Пикник на обочине" (пэйнтбол + испытания). 3. "Искатели приключений" ("Форт Байяр" в лесу). Спортинг-клуб "Москва" (15 км от МКАД по Минскому ш.), Бухта Радости на Пироговском водохранилище (20 км от МКАД по Осташковскому ш.). Т. (095) 482-47-12, 482-46-85, 126-09-43, 967-33-86. Еременко, Еременко-ко, Еременко-ко-ко, Ко-ко-ко-ко-ко-ко...
"Книжное обозрение", 11 сентября 2000,
а также в книге Юрия Кувалдина "КУВАЛДИН-КРИТИК",
Москва, издательство "Книжный сад", 2003